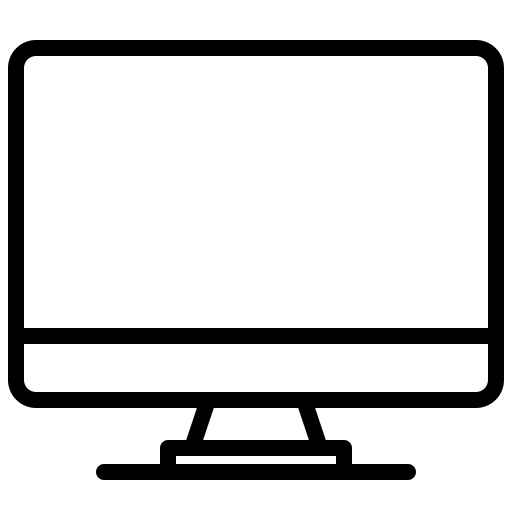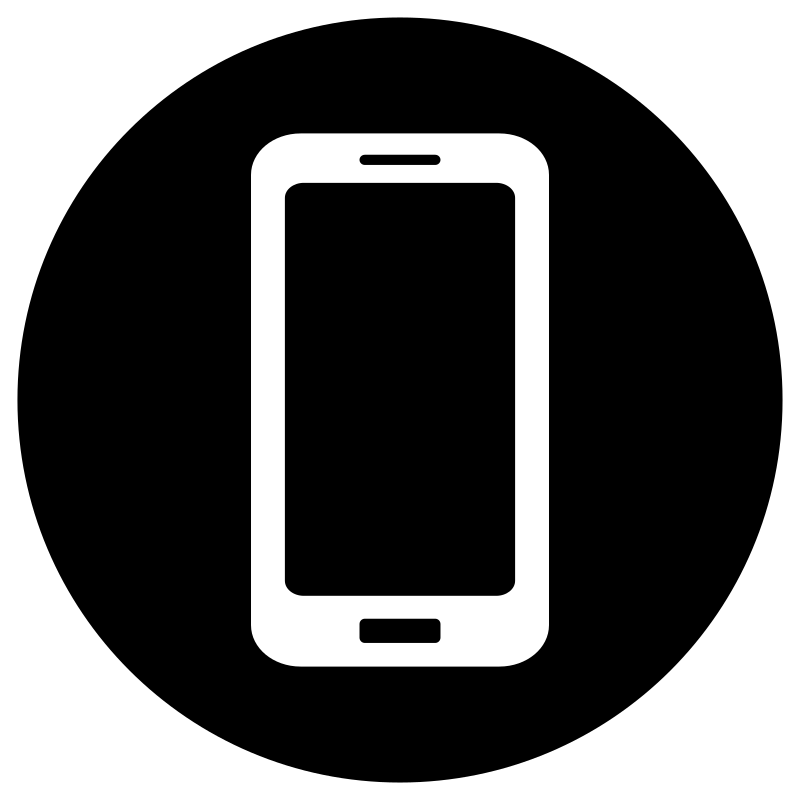В рамках мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста, проводимых Украинским Институтом Изучения Холокоста «Ткума» и музеем «Память еврейского народа и Холокост в Украине», в Днепропетровске прошла премьера знаменитого польского фильма «Poklosie», который многие эксперты, вместе с фильмом «Ханна Арендт», сочли «важнейшим событием в неразвлекательном кинематографе 2013 года».
Инициатором и продюсером его показа в Днепропетровске стал Евгений Летичевский, известный пропагандист киноискусства, который, несмотря на годы, прожитые на чужбине, не потерял желания активно участвовать в культурной жизни родной общины.
Показ фильма прошел в зале «Синай» крупнейшего в мире еврейского центра «Менора», а после просмотра состоялось его обсуждение и широкая дискуссия по целом ряду проблем, поднятых фильмом. Выступающие, среди которых было много участников семинара учителей истории и методистов, проводимого УИИХ «Ткума», подчеркивали злободневность и своевременность, поднятых тем, которые, с учетом современных украинских актуалий, сейчас приобретают особую остроту.
Пожалуй, лучшую (и весьма подробную) рецензию на этот фильм написала Александра Свиридова (Нью-Йорк, США) для авторитетного международного русскоязычного ресурса «Мы здесь!», возглавляемого классиком еврейской (идишиской и русскоязычной) журналистики Леонидом Школьником.
Рецензия состоит, по сути, из двух частей. В первой подробно (и очень хорошо) пересказывается сам фильм. Во второй, собственно, анализ его как с кинематографической, так и с точки зрения того, что Даниил Дондурей называет «поиском представлений о жизни», в чем и заключается главная роль искусства вообще, и кино в частности. Рекомендуем обе части, но вторую – особенно.
Бросьте все – идите и смотрите.
Александра Свиридова
Бросьте все – идите и смотрите. Это не про Польшу, не про поляков и не про Едвабне, хотя в кадре Польша. Это про убийство людей людьми. Соседей – соседями.
«Я знаю такие деревни, я знаю таких людей», — во множественном числе ответил Дариуш Яблонский на обвинения в поклепе на поляков.
В фильме все много проще. Массовое убийство уведено за кадр, а в кадре всего два человека, два брата. Один прилетел из Америки повидать другого, живущего в отцовском доме на хуторе. Подтянутый, чисто выбритый мужчина лет сорока с небольшим, с легкой кожаной сумкой прибывает в некий город в Польше. Его никто не встречает. Он садится в такси и только таксисту скажет, что 20 лет, как уехал, живет в Чикаго. Уточнит, что уехал в первую стычку властей с «Солидарностью». Так устанавливается время: уехал в 1981-м, приехал – в 2001-м.
Машина в сумерках тормозит у тропинки в поле – дальше пешком до дому. Меж сжатых полей, покрытых той самой колючей щеткой стерни. Хрустнет ветка в жидком кустарнике, разделяющем луг на «твое-мое» и Франтишек – так зовут мужчину – поставит сумку на свою стерню и бесстрашно ринется по своей земле в кусты:
— Эй, кто там?
Нет никого. Только сумка исчезла. Значит, был кто-то… Кто?
Он войдет в старый дом налегке – без сумки. Встретит его хмурый младший брат Юзеф, грязный после рабочего дня в поле. И только погаснет свет, как со звоном разлетится оконное стекло от брошенного с улицы камня…
Такое начало.
Из скудных реплик выяснится, что младший старшему многого не прощает, хоть и помнит его не очень хорошо. Был брат – и не стало, сбежал, оставил семью и даже на похороны отца и матери не приехал. Жалкие оправдания эмигранта, что паспорта не было, для Юзека — пустое.
— Ты им это расскажи.
— Они уже не живые.
— Для тебя, — отрежет брат с укором.
Так авторы обозначат, что для младшего ушедшие – живы. Это важная точка противостояния.
Дальше – больше: из незначительных реплик откроется, что от Юзека ушла жена, уехала с ребенком в Америку и там рассказала старшему, что младший сошел с ума и она не может жить с ним в аду, который он устроил.
И медленно приоткрывается ад.
Франтишек пойдет по центру села, а ему со всех сторон станут нашептывать, чтоб забрал брата с собой в Америку.
Его узнают, а он – никого. Все помнят отца, укоряют, что хоронить не приехал… И объясняют, что младший – мерзавец: сломал единственную хорошую дорогу в селе. Зачем – непонятно. Подтянутый строгий старший решительно идет в банк – просить ссуду на то, чтоб починить полуразрушенный дом, а ему скажут, что дом вовсе не его… Что его отец землей завладел незаконно. И старший почувствует, что все тут сошли с ума.
А младший поведет его в чисто поле – на отцову землю и покажет свое богатство: стоят на стерне рядами надгробные плиты евреев… Со старинными надписями, с магендовидами… Именно этими камнями была выстлана в селе единственная хорошая дорога. Нынче ее решено асфальтировать. И не останется следа от людей, что когда-то лежали под этими камнями…
И это только пол-дела, так как из ничейной дороги Юзек камни просто выворотил и увез, а много камней разбросано по частным подворьям. И он их выкупает у односельчан…
Франтишек подсчитывает убыток: 700 тысяч злотых за триста надгробий.
— Да это ж жиды! – взрывается старший.
— Люди, — поправляет его младший.
И говорит: «Знаю, что деревня считает меня свихнувшимся. Но это пустяк. Обидно, что жена была на их стороне». — Особенно когда я начал камни эти покупать… Что ж – лучше красть? – недоуменно спрашивает Юзек. И перечисляет, где еще остались камни, которые нужно перетащить сюда — на свою землю…
Он склоняется к камню, любовно погладив его, и читает на иврите надпись.
— Откуда? – дивится старший.
— Выучил, — пожимает младший плечом. – Узнать хотел, что написано…
И объясняет, что он не безумец, а просто…
— Немцы сожгли синагогу и уничтожили кладбище. Это я не могу поправить – я даже не родился тогда еще. Выстелили дорогу надгробьями, и я об этом не знал. Но когда сказали, что дорогу покроют асфальтом, я понял, что этого не должно быть.
— Но почему? У нас с жидками ничего общего! – взрывается старший.
— Не знаю, — честно отвечает Юзек. – Я плохо себя чувствую, когда думаю о том, что это неправильно и я ничего не делаю. А если кто возьмет надгробье наших родителей и положит у своего порога, чтоб вытирали ноги?..
— Но эти люди нам — никто! Они не наши! И вообще умерли сто лет назад, а твоя семья жива, и почему она должна страдать от того, что ты заботишься о мертвых жидах?! – кричит Франтишек.
— Я знаю, что это неправильно, но я должен делать это. Я не могу иначе…
Невероятная сцена.
Прекрасный молодой актер Матей Штур играет сомнамбулу – героя, который ведом неведомой силой. И старший брат – актер Ирениуш Чоп – отшатнется. От протеста, непонимания, отчаяния, невозможности что-либо изменить. Единственный правильный выбор для него теперь – встать на сторону брата и помочь ему дособирать оставшиеся камни…
— Почему из всех людей ты выбрал заботиться о мертвецах? – только и спросит он.
— Не знаю. У них не осталось живых, кто бы заботился об их могилах…
Братья пойдут за очередным камнем. Село выйдет против них. И спасет их старый ксендз, который встанет между братьями и разгневанными селянами. Отдаст камень, что подле костела, а потом замертво упадет в своей светелке. Успев сказать старшему, что он полагает, что Юзек исполняет Божью волю.
— Я думаю сказать об этом на службе… – будут его последние слова.
Старший роется в архиве, чтобы найти документы на усадьбу отца, а находит имена настоящих владельцев – и все они совпадают с именами на надгробьях.
— Значит, они взяли себе землю убитых евреев, — потрясен Франтишек.
— А что вы хотели? Немцы не могли забрать землю с собой, — парирует архивист.
А в доме тем часом все перевернуто, изрисовано магендовидами, исписано вечным словом «жид» по стенам.
— И собаку убили, — добавляет растерзанный младший.
— Застрелили? – неизвестно зачем, уточняет Франтишек.
— Тут тебе не Америка, — язвит Юзек. – ОТРУБИЛИ голову.
Процесс накопления деталей и подробностей противостояния достигает апогея. Мир фильма окончательно обретает полюса добра и зла. Братья становятся страдальцами, остальные – чудовища, не пощадившие невинную добрую псину. Тут-то и выплывает неожиданный вопрос, куда делись сами евреи?
Ветер и шепоты приносят ответ, что тут они и остались… И старики знают, где. Роняют слова, намеки. И, наконец, советуют братьям поискать… у себя в старом доме. Страшный момент.
Братья идут в старый отцовский дом где-то на отшибе, куда выбирались в детстве, как на дачу. Берут лопаты и начинают копать… В черную грозовую ночь в плотной стене библейского дождя они стоят по пояс в яме, похожей на могилу, и натыкаются на черепа…
Великая сцена. Младший бьется в истерике и блюет, а старший упорно продолжает копать и истово выкрикивать слова молитвы…
Наутро братья выбирают самого злобного и отвратного деда Малиновского, два сына которого с лицами убийц противостоят им в каждой стычке, и идут к нему – требовать объяснений.
— Я не убивал, — говорит дед. – Закопай их обратно. Им все равно, где лежать.
— Но их детям… – возражает Юзек.
— Нет у них детей – они вместе с ними лежат.
— Это ты их поджег!
— Я? Сто двадцать человек убил я один? Нет! – кричит старик. – Правды хочешь? Это ваш отец зажег свой дом с двух сторон.
— Врешь! – орет Юзек, как раненый зверь. – Сдохни! – и бросается на старика.
— Ну, убей. И кто тогда убийца – я или ты?! – не дрогнув, орет старик в ответ. – Твой отец их убил. А Хаське голову раскроил на дороге. Она до войны ему нравилась, но к себе не подпускала. Он схватил ее за волосы и бил головой об землю, а она кричала «Мама, мама»… Эту правду ты хотел узнать, выблядок?..
Дышать в этом месте нечем.
Братья приходят в свой разоренный дом, моются после страшной ночи.
— Что будем делать? – спрашивает Юзек.
— А что тут поделаешь? Похороним их на кладбище, — кивает Франтишек на поле, уставленное надгробьями.
— Нет, — твердо и решительно возражает Юзек. – Если мы начнем перетаскивать кости, тут-то все и откроется.
Он больше не сомнамбула. Он очнулся, он трезв и решителен: тайну нужно хранить.
— Мы зароем их там, где нашли. Никто не узнает.
— Но мы знаем! – потрясенно возражает Франтишек. – Наш мир – говно, и мы не можем сделать его лучше, но мы можем не делать хуже. Наша семья уже натворила дьявольщины…
— Хватит, — обрывает брат брата. — Вали в свою Америку! Ты мне не брат!..
Словесная перепалка перерастает в драку, где мирный холодный Франтишек хватается за топор. Тот самый, которым уже отрубили голову любимой собаке. Он замирает, бросает топор, хватает пиджак и бежит прочь со двора.
Младший умывает в шайке лицо.
Слышит сзади шаги… Улыбается виновато и успевает сказать:
— Я знал…
«… что ты вернешься» — хочется добавить.
Но – увы – никто не вернулся…
Франтишек стоит на автобусной остановке. Подходит автобус, он прыгает в него и едва успевает отъехать, как легковушка соседей загораживает ему дорогу… Его выводят из автобуса и везут назад.
Юзек мертв – прибит гвоздями в позе Христа на дверях амбара.
— Он повесился, как Иуда, — говорит молодой ксендз-антисемит, отводя тему убийства в сторону – по традиции этой деревни.
Конец.
Фильм невероятный.
Притом, что нет в нем прорыва в собственно кинематографическом поле. Нет ни одного незабываемого плана, ни одного новаторского режиссерского решения, ни одной захватывающей операторской точки, откуда открывались бы бескрайние поля и луга. Ни одного ОБРАЗА, в который бы выкристаллизовалась реальность. Напротив – есть расщепление всех стандартных ходов и приемов, свойственных послевоенному кино, работающему с темой войны.
Каждый кадр претендует только на реалистичность – даже когда в полной темноте в черной жиже братья копают подпол собственного дома, стоя по грудь в яме, словно в могиле, покуда не натыкаются на черепа, и яма действительно становится могилой.
Могилой, в которой погребены евреи. Могилой, в которой покоится общая грязная тайна всего села. Могилой, которую своими руками вырыл их отец-убийца.
Юзек с черепом в руке неожиданно рифмуется с принцем датским, но рифма ломается, поскольку Гамлет с нежностью обращается к пустым глазницам:
— Мой бедный Йорик!
А Юзек кричит от ужаса и отвращения.
Первая реакция – после ужаса – пугает: впервые в жизни, перекрикивая все свое сиротство, я внятно произношу: какое счастье, что у меня в семье всех убили! Какое счастье, что я из семьи убитых, а не убийц! Третьего, оказывается, не дано в этом «танго смерти», где кружатся — неразрывны и неслиянны — прижатые друг к другу жертва и палач, еврей и антисемит.
Вторая – чуть погодя, — особая. Рациональная: зависть к полякам, которым удалось прорваться на другой уровень сознания, о-сознания, о-сознавания собственной истории – государственной, личной.
Объясню, почему.
Двадцатый век ознаменован на самом деле одним по-настоящему важным для всех живущих на шаре событием: на Запад пришел Восток. И Восток принес много новых слов и понятий, с которыми мы за сто лет уже обжились, не очень проникаясь их недюжинным смыслом.
Восток научил нас знать, что смерти нет, а есть бесконечная цепь рождений, воплощений в другом теле, с другим именем , но со все той же СВОЕЙ судьбой. Со своей КАРМОЙ. Кармой, которая работает по единственному закону: «Что посеял – то и пожнешь». И если искровянил ноги, ступая по своей земле, то так и должно быть: идешь по своей стерне. И пока не искупишь то, что сотворил, не будет тебе другой стерни, другой земли и другой судьбы. Сколько ни рождайся – даже смерть не даст избавления.
Завидую полякам, дожившим до этого дня – когда ТАКОЕ довелось им снять. Это грандиозный прорыв на другой уровень сознания. И то, что страна от фильма встает на дыбы – свидетельство того, что авторы попали в точку.
И польского поляка актера Штура угрожают убить за роль польского поляка! Это оно и есть – о чем в фильме кричит дед Малиновский: «Убей. И будешь ТЫ убийца».
Тяжкий труд предстоит полякам – принять эту картину, принять правду о том, что отцы и деды – убийцы. Перебили «жидков», поселились в их домах, на их земле, присыпав их обгорелые кости землей, вымостив дороги плитами их кладбищ, и вырастили своих детей на этих костях и плитах. А тонкокожие дети услышали… К ним достучался пепел «жидков».
Принять, что отцы – убийцы – это только начало. Главное — отмолить грех отцов, покаяться, выпросить прощения и сделать следующий шаг — следить за тем, чтобы не повторить то, что сделали отцы. И история сдвинется с мертвого круга, по которому идет веками и, глядишь, пойдет другим путем.
Тяжкий труд души – взять вину на себя, а не открещиваться: «Это сделал не я». Именно эта особенность поднимает польскую драму на уровень древнегреческой трагедии. Туда, где царь Эдип на собственный строгий вопрос «Кто убил царя?» отвечает: «Я» — и выкалывает себе глаза в отчаянии, карая себя и вбивая в мировую культуру фундаментальный символ внутреннего прозрения. Ибо нечего видеть и искать вовне. Все – внутри тебя.
Дожить до того дня, когда Россия развернется на себя – не с моим счастьем».
Оригинал публикации рецензии здесь.
При составлении коллажа использованы кадры из фильма и фотографии пресс-службы УИИХ «Ткума».