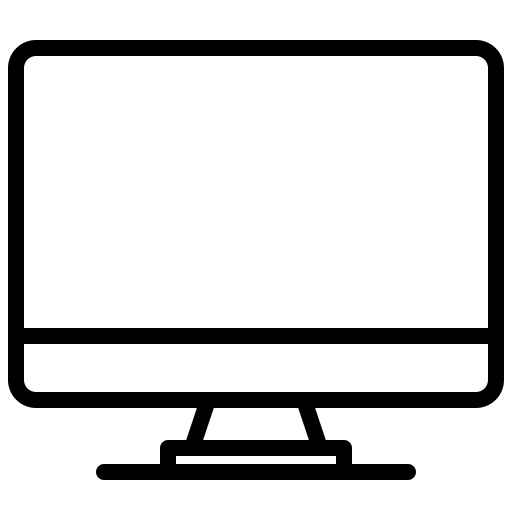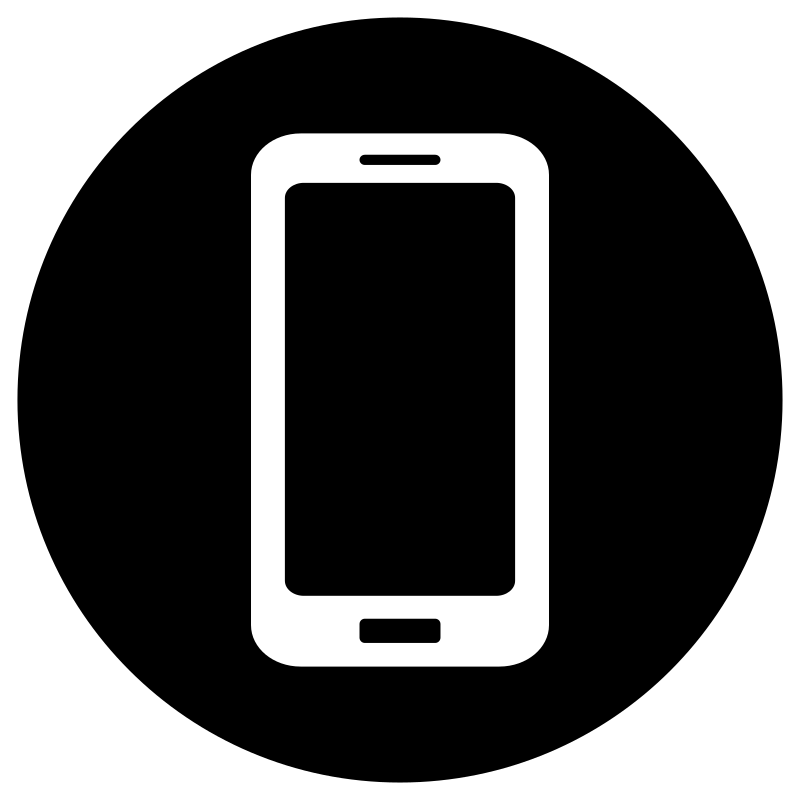В знаменитом днепропетровском Арт-центре «Квартира» прошли (среди многих замечательных прочих) два мероприятия, которые заинтересовали наш сайт настолько, что было принято решение попросить написать о них нашего постоянного обозревателя по вопросам культуры Эзру Гордона.
«На самом деле событий было три – два в Днепропетровске, а одно в Киеве. Разумеется, я имею виду не те События, которые заслуживают большой буквы, и которые мы еще не знаем, как и назвать. Нет, я говорю о событиях с маленькой буквы (помните, как у Ильфа и Петрова, в «Золотом теленке», глава IX «Снова кризис жанра», были введены понятия большого и маленького мира? Брюки фасона «полпред»?), о событиях, которые можно было бы действительно назвать «мероприятиями», конечно, в хорошем смысле слова.
Одно – это дискуссия о патриотизме, интеллигенции и искусстве, другое – киноклуб с просмотром фильма о том, как в США преследуют и ограничивают свободу слова, и как страдают и погибают борцы за эту свободу, а третье – лекция об историко-культурном наследии евреев Украины. Первые два события – наши, в теплых стенах («пусть будет теплою стена и мягкою – скамейка») «Арт Квартиры», камерные, уютненькие, даже микрофон не нужен, можно шептать, на дискуссии народу побольше – человек двадцать пять, на кино поменьше – около семи (одно немного посидело и ушло, как его считать?), а вот на третьем, лекции, людей было, как бы это сказать – много, до числа Подервянского, много людей. Сотни? Тысячи? Наверное, все-таки, несколько тысяч. И лекция была на улице, на холоде, на Майдане.
Владимир Ильич Скуратовский построил свой дискуссионный клуб без споров до хрипоты, без излишнего накала страстей, скорее как беседу с залом, который помогал ему лучше сформулировать собственные морально-этические вопросы, обычно общечеловеческие, ну как минимум, общеславянские. Иногда, даже спускались до масштаба одной (но большой, не абы какой), личности, дабы убедить себя, что Глинка погорячился, и не Россию он трижды проклял, а бюрократию, а матушку-Россию он очень любил, не квасным, конечно, скорее морсовым или может сбитеневым, но патриотизмом. И Бродский любил, очень-очень, патриот был большой. Может, «до самых, до окраин» любил, может, только до стрелки Васильевского острова, но главное – любил. Для того, чтобы не создалось впечатления, что поиск тонкой разницы между «родиной» и «отечеством» – это исключительная забава для «мистери рашен соул», приводились в пример и Маллер, и Шопен, и Ромен Гари и другие. Но все как-то выходило, что большинство носителей проблемы были все же русскоязычными, и как-то все больше евреи – Бродский, Мандельштам, Пастернак (хотя вот, скажем, Шостакович или Филатов, вроде как и не по этим делам, а вот, поди ж ты, вроде как тоже Родину любят). Было много хорошей музыки, стихов, было много почти позабытого «чувства локтя» и чего-то необъяснимого, но выражающегося избитой и затасканной строкой – «как здорово, что все мы здесь, сегодня собрались». Правда, про любовь к России все осталось не очень ясно – вроде бы, если ты русский интеллигент, то надо это дело исполнять, как ежику с кактусом. Но почему любовь к России еще волнует кого-то в наших краях? Видимо, надо еще раз пересмотреть фильм «Плохой хороший человек». И перечитать, что умные люди пишут о «стокгольмском синдроме» или лучше Лема – «Осмотр на месте», что он там пишет про Курляндию.
Макс Шевцов на своем киноклубе «Соседний зал» был чужд психосоматических переживаний, страданий Вертера любого возрастного периода и поисков правды исконной, а также сермяжной, домотканой и кондовой – он действительно любит и понимает кино. Спасибо еще, что не показывает «Похитителей велосипедов» и Фасбиндера. Нет, конечно, не «Звуки музыки», не «Цветок кактуса», не до такой степени, но все-таки он всегда выбирает кино, которое с одной стороны можно просто смотреть, но с другой стороны, чтобы любители почесать киноязыки, смогли предаться своим любимым аллюзиям и реминисценциям. Евреи? А как же, сколько угодно – какое кино, а тем более, какой Голливуд, пусть даже «Новый», без них. Но… Снова как-то не прямо, как-то вскользь. Вроде бы, да, но как-то нет. А ведь история про Ленни – это история про Вуди, если бы он не снимал кино. Наблюдатель, для которого все – лишь повод для иронии, сарказма, и довольно обидного смеха – это ли не та знаменитая «поза эмигранта», которую так долго искали Ганна Слуцки и Леонид Трушкин? Это ли не главное для «аидеше ин кино» (прости, Стинг) – от основателей «United Artists» до тех, кто все еще считает, что кино не только картинки для стимуляции более качественного перерабатывания попкорна с колой. Почему? Случайно ли? Но это рефлексии – а Макс, интеллектуал, твердо держащийся реальности. Поэтому зал и соседний, а не подвальный и не горний. Если вы искали с перламутровыми пуговицами – вам сюда.
А вот там, на морозце, Игорь Гольфман, известный своим сетевым псевдонимом «Эзра Книжник» (ого! хорошо еще не Моше Рабейну) был представлен народу как «знаток киевской старины и специалист по иудаике». Дело было в рамках «Свободного университета», ведь на Майдане умные люди, времени терять зря не хотят, вот и вспомнили – «Антон Палыч Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак – учить», и решили, что публичные лекции как раз то, что надо. Лекций уже было много разных – прикладных и по общим наукам, а про евреев решили не обиняками, не сквозь стихи и кино – а напрямую. Вот и сделали как часть «Лекций на паллетах Творческого Барбакана» (вообще, барбакан – фортификационное сооружение, охраняющее подступы к замку, крепости или городским стенам, а «Творческий Барбакан», «защищающий» Крещатик со стороны Бессарабской площади – это представительство на Майдане группы художников, поэтов и писателей, которые организовывают выставки, перформансы на перегороженном баррикадами Крещатике). Далее цитирую ЕАЕК: «Эзра Книжник» рассказал собравшимся базовые факты по истории и культуре еврейского народа, сосредоточившись на связях евреев и восточных славян во времена Киевской Руси. Занятие имело колоссальный успех у активистов протестного движения, лектора просили о продолжении цикла. По словам «Эзры Книжника», это лекция была первой в подобном формате, однако в менее формальной обстановке он уже неоднократно рассказывал о еврейской истории, культуре и этнографии на Майдане и разных местах собраний революционеров. И лектор, и слушатели надеются на продолжение проекта». Кстати, а что наши многочисленные лекторы – что ж они не рассказывают, о том, что такое хасидизм, и почему он появился в Украине, кто такие евреи, как и с каких пор мы живем на этой земле? Думаете, это не интересно? Или не полезно? Ау, историки, доценты с кандидатами, популяризаторы и интерпретаторы – может пора выходить «из башен слоновой кости». Некоторым на время, а некоторым и «с вещами». (Не знаю, есть ли тут связь, ведь, как известно, после – не значит вследствие, но все синагоги Киева через день или два были взяты под защиту Майдана. Наверное, более символическую, но помните, как в Днепропетровске Рух в восьмидесятые охранял еврейские мероприятия и праздники и как с руховской повязкой ходил Аркадий Шмист, светлая ему память?).
А почему я объединил эти три события – дискуссию, кино про Ленни Брюса и лекцию о евреях на Майдане – а потому, что мне кажется, они дают три разных ракурса – как три плоскости, проходящие через трехмерный объект, они дают нам возможность понять. Разные группы крови? Настолько разные? Можно мучительно переживать свое очевидное несоответствие с чем-то чудовищным и имморальным и даже эстетизировать этот процесс, можно выйти в параллельный мир и время и делать то же, что делали в 80-х, 90-х, 00-х – просто выпасть из временно-пространственного континуума (тихо, физики, не кричите, а то в сингулярность засуну), а можно делать то, что можно делать только сейчас, и там, где и есть это самое сейчас. Можно хотя бы попытаться понять, что оно и где оно это «сейчас». Только не следует забывать, что «Понять – значит упростить». Помните, к какой книге это эпиграф?».